


































|

Одного из авторов популярной телепрограммы "Городок", Юрия Стоянова, сегодня можно чаще увидеть на большом экране, чем по телевизору. Почти одновременно вышло два фильма с его участием — "Смерть в пенсне, или Наш Чехов" и "Человек у окна" (последний пока можно увидеть только на фестивалях). "Огонек" поговорил с известным актером о творчестве и о жизни
— По вашим интервью складывается ощущение, что вы человек совершенно неуязвимый. На любой вопрос у вас есть взвешенный ответ. Вы никого не ругаете, а, наоборот, предпочитаете хвалить. К вам, что называется, ничего "не липнет"?
— Можно ли составить представление о человеке по интервью? Что такое вообще интервью? Оно хорошо тем, что у тебя появляется возможность что-то сформулировать и подумать над тем, чем ты занимаешься. В жизни на это часто не хватает времени. Когда интервью провоцирует подумать о себе и о своем деле, профессии — это всегда интересно. Этой части моих интервью можно доверять.
В остальном это то, каким ты хочешь, чтобы тебя видели. Никто ведь не сказал, что интервью — это исповедальный жанр. Ощущение неуязвимости идет как раз от очень большой уязвимости и от умения закрываться неглупыми общими словами, нетупыми формулировками. К этому приучила жизнь. Я как раз человек с не очень высокой самооценкой. Но я люблю и умею хвалить. Я хороший зритель, ценю талантливых людей и обожаю тех, кто меня удивил хотя бы на одну секунду,— такой простой принцип. Удивление в моей профессии является одним из самых главных критериев. Репетируешь-репетируешь два месяца, сто раз слышал одну и ту же фразу. Выходишь на сцену, вдруг человек тебе ее говорит — и ты понимаешь, что она прозвучала совершенно невероятно. Так искренне, что ты совсем к этому не готов. И ты в этот момент испытываешь то удивление, которое я высоко ценю.
А от себя самое большое наслаждение — когда ты сам себя удивил. У меня несколько таких секунд, даже не минут, на всю жизнь наберется.
— А случается, что вам хочется сорваться, наговорить лишнего?
— Случается, например, когда к делу, которым мы занимаемся, применяются штампы. Вроде бы не надо обращать внимания, следует пропускать мимо и делать вид, что этого не было, но меня очень обижает несправедливая, запрограммированная критическая пресса. Большая часть того, что пишется,— это интервью с нами. Когда меня спрашивают о "Городке", я всегда прошу: напишите, что именно вы о нем думаете. Почему все время об этом говорю я? Естественно, я люблю его, это мой дом, он меня и моего партнера в прямом смысле спас от краха профессионального и человеческого. Теперь мне интересно мнение, только не мое, а чужое. Ладно, допустим, оно сформировалось несколькими словами телевизионного критика Ирины Петровской или еще чьими-то. Про нас пишут, что "Городок" — это "вершина", "вкус", "человеческая история", "как смогли за столько лет не опуститься, не опошлиться", "семнадцать лет в эфире — это беспрецедентно". Но как только мы пытаемся интегрироваться во что-нибудь другое — в театр, например... Хотя это странно: я всю жизнь проработал в театре, но для большинства людей я телеперсона. Так вот, эту свою ненависть интеллигентных людей к телевидению вообще они переносят на любую персоналию, которая со своим медийным рылом пытается осквернить святые стены театрального храма. С этого момента критика становится убийственной. Меня называют шоуменом, но я никогда в этом качестве нигде не работал. Я не обращаюсь к зрителям со словами: "Добрый вечер! Как я рад, что мы снова вместе!" Мы двадцать лет работаем на телевидении актерами. Мы — артисты, которые придумали много маленьких фильмиков для телевидения. Пленка дешевая, цена дубля очень мала, и это артистов освобождает. Безответственность и умение получать от этого удовольствие сделали нас артистами. Так вот, все это перечеркивается.
По-настоящему мнение критика обижает тогда, когда совпадает с чем-то таким, что ты сам про себя знаешь. Когда он угадал твое слабое место. Но эта критика очень продуктивна. В моей жизни было несколько очень важных замечаний, которые мне сделали в разное время разные же люди. Я их очень глубоко переживал, но смог выкарабкаться. Эти замечания будто ставили меня на следующую профессиональную ступень.
— Это были критики?
— Нет, это были большие артисты, которым я доверял. Они сказали мне несколько вещей, которые я очень боялся услышать.
— Может, один из них — Олег Табаков, который как-то сказал, что видел вас в спектакле, но не запомнил?
— Мне тогда был 21 год, так что это как раз естественно. Хотя сейчас он утверждает, что все это неправда: "Ерунду говоришь, я прекрасно тебя помню". Нет, это был, например, Олег Басилашвили в конце девяностых. Его замечания меня озлобили и заставили разобраться внутри себя. Но это были профессиональные моменты, которые касались моего метода работы. А та критика, с которой я сталкиваюсь сейчас, попахивает запретом на профессию. Если бы все то же самое делал бы человек с другой фамилией, но с теми же лицом, психофизикой, концепцией, органикой, то статья была бы совсем иной. Понимаю, что это называется "счастье и проклятие "Городка"". Проклятие выявляется каждый раз, когда ты делаешь шаг в сторону. Причем ужасно то, что оно касается даже не меня, а зрителей. Пишут, что якобы со мной в театр пришел какой-то не тот зритель! Статья, скажем, начинается словами "публика в зале не то чтобы плоха". Меня это совершенно убило. В зале в этот день были мои друзья. Один — врач-реаниматолог. Второй — известный киносценарист. Третий — музыкальный продюсер. И — моя жена. Кто же был этой плохой публикой? Все остальные люди в зале? На афише даже имени моего нет, а меня упрекают, что я "привел" людей, только что оторвавшихся от "ящика". Да если бы это и было так, неужели это плохо? "Театр — не для быдла", должен быть полупустой зал, в котором сидят двенадцать единомышленников, для которых играют сорок артистов. Вероятно, это — настоящий театр! В конце концов, те люди, которые пишут такие статьи, могли бы поинтересоваться, кто является целевой аудиторией "Городка" — интеллигенция от сорока одного года. Но ведь она и пришла на спектакль. Вот такие вещи способны выбить меня из колеи. Раньше я доверял критике, которая писала плохо не обо мне. Теперь — не имею права. Один из главных продюсеров страны мне сказал: "Брось ты свой "Городок"! Будешь сниматься, как человек. Сейчас тебя невозможно представить на большом экране, потому что ты тащишь за собой из "ящика" тысячу уродов, которых ты сыграл. От них ведь надо освободиться за те десять минут экранного времени, что тебе дадут".
Еще меня здорово способны вывести из себя человеческая неблагодарность, бессовестность и неумение произносить два слова: "спасибо" и "извини". Умение произнести и прочувствовать эти слова отличают человека от животного.
— Но вы предпочитаете не высказывать это вслух...
— Пожалуй, я впервые говорю об этом публично. Чего я никогда не позволяю себе делать, так это говорить плохо о моих коллегах. Совсем не из-за дипломатичности. Когда-то мой партнер плохо отозвался о передаче "Аншлаг" и я ему сказал: можешь сколько угодно говорить о передаче, но ни в коем случае не о людях. Если бы мы с тобой не встретились и наша судьба не сложилась вот так, как она сложилась, разве не стоял бы ты сам сейчас за кулисами "Ашлага", изображая отдельно подснятую любовь к тем, кто сейчас выступает на сцене? Я бы не стоял, потому что играл бы в плохих спектаклях в массовке и обо мне бы никто не знал. А ты бы стоял, и о тебе кто-нибудь более успешный что-нибудь такое обязательно сказал.
— В ваших словах слышится благодарность жизни, как бывает у верующих, которые привыкают благодарить Бога за все...
— Человек имеет право обратиться к Богу своими словами, и желательно это делать не в тот момент, когда самолет идет на взлет. Я не всегда так думал. Все-таки я "артист второй половины жизни". Да, я не Женя Миронов и другие артисты, которые начинали зрело и серьезно и им сейчас не стыдно за то, что они делали в двадцать лет. Так вот, в этой "второй половине жизни" каждый день, профессиональный или человеческий, надо стараться проживать так, как если бы он был последним.
Самая большая загадка, но и прелесть человеческой жизни — это неведомое. Есть осознание общей конечности, хотя ты не знаешь, когда это произойдет. Я думаю, что этот закон для того и существует, чтобы мы все чувствовали ответственность, понимали ее. Мне страшно за людей, которые обращаются к ясновидящим, пытаясь узнать о "конце". Знать это — ужасно. Наоборот, неведение делает тебя оптимистом. Прожить день — прекрасно, неделю — замечательно, год — удивительно, десять лет — фантастически! До какого-то времени об этом не думаешь, но после задумываешься довольно часто.
— В "Городке" ваши герои в основном люди несчастные, но смешные. А в фильмах "Двенадцать" и "Смерть в пенсне, или Наш Чехов" в ваших героях уже больше трагизма, чем юмора. Вам уже не смешно?
— Замечательно, если это чувствуется. Было бы пошло, если бы я, до того как эти фильмы кто-то увидел, декларировал это на уровне намерений. В моей профессии быть умным иногда выглядит пошловато. Потому что если ты что-то заявляешь заранее, а потом люди это не почувствовали, это ужасно. Лучше не пытаться это формулировать или делать специально так, чтобы зритель это почувствовал. Что такое "предлагаемые обстоятельства"? То, что предшествует выходу артиста на сцену либо в кадр. Та жизнь, которую его персонаж прожил до своего появление перед зрителем. С моей точки зрения, не следует думать: я — телепродюсер, вырос в такой-то семье, учился в Гарварде, меня и мою маму вы все прекрасно знаете. Обязательно должно быть что-то очень личное!
Когда мы только начинали делать "Городок", нам тяжело давалась органика, естественность в кадре, достигалась она только за счет профессиональных навыков. Сейчас все молодые актеры очень органичны — настолько, что это иногда смущает. Они не волнуются, для них выйти на сцену так же просто, как сходить в сортир. Им будто по фигу! Они не чувствуют ответственности, которая бы на них давила. Это приводит к тому, что я вижу актера, снимающегося в разных сериалах, и уже не понимаю, какой из них я сейчас смотрю. Хорошо, что время так раскрепостило актеров. Раньше двадцать лет должно было пройти, чтобы ты себя почувствовал свободным в кадре. По-прежнему мы, когда играем, страдаем некоторой перегруженностью нашей настоящей жизнью. Но если в истории, которую ты хочешь сыграть легко, зритель все равно ловит всю прожитую тобой жизнь, твою боль и в этом нет назидательности, педалирования, подмигивания, то это лучшее, на что ты можешь рассчитывать. Я по сей день многих вещей не знаю и остаюсь довольно неуверенным артистом. До того момента, пока не зажглась лампочка REC! С этой секунды мне становится очень хорошо. Надо прийти к этому — чтобы страшно хотелось войти в кадр. Нужно этого желать, как сигарету. Я курю потому, что мне это нравится, а не потому, что это рефлекс или потому, что я наркозависимый человек. Я могу выпить одну рюмку водки за месяц, потому что она вкусная, а не потому что она бабахнет меня по башке. Не понимаю, как можно пить по рюмке на ужин. Если бы я столько пил, вы бы у меня брали интервью в другом месте и для другой рубрики.
— А бывает, что люди смеются, когда вы этого не хотите?
— У нас в Киеве случился страшный случай. Мы с Ильей играли концерт и были довольно уставшими, не в очень хорошем расположении духа. Это был какой-то корпоративный праздник, двухтысячный зал был разгорячен, и мы должны были отыграть один номер и уйти. Мы сели на стулья и стали смотреть в пол. Потом подняли головы и посмотрели в зал. Началась ржачка. Чтобы было удобнее сидеть, я закинул ногу на ногу, и это тоже было воспринято, как очень смешное движение. Я шмыгнул носом — зал встретил это как чаплиновский гэг. Мне стало страшно. В тот момент я понял, что "имидж стал работать на меня". Зритель жесток. Ты занимаешься фехтованием с залом. Вот они встречают тебя. Твоих прежних заслуг хватает на несколько минут. Они увидели тебя. Обрадовались, что ты жив-здоров. Убедились, что ты не такой жирный и маленький, как на экране, а респектабельный, интеллигентный человек нормального роста, даже выше среднего. Всего этого хватило на двадцать секунд, а дальше надо упорно работать. Но после того случая в Киеве я подумал, что, может, мы стали для этих людей совсем своими? Вроде хороших соседей.
— Вы все время говорите о творчестве, а ваш герой в "Нашем Чехове" даже во имя него умирает. Чем является творчество для вас? Просто работа? Или часть жизни?
— Для моего персонажа в фильме жизнь — это часть творчества, она вторична. Но тотальная одержимость — это грех, за который придется заплатить.
В моей жизни этот дисбаланс между жизнью и творчеством тоже намечался, и я понял, что иду к самоуничтожению. У меня поздно появился ребенок — мне было уже 46 лет. Если бы мне в двадцать лет кто-то об этом сказал, я бы только у виска покрутил. До рождения дочери это было что-то вроде самоистязания. Сколько было выкурено сигарет на монтажах! Сколько кофе выпито! Вот я не сплю третью, четвертую ночь подряд! Так человек не может, а я — могу! Я обманул Бога! Семья не важна! Но потом я понял, что любить себя — это не признак эгоизма, а моя обязанность, потому что рядом со мной любимый человек. Иначе я сдохну и оставлю маленького ребенка одного. И не только его, но и всех тех людей, которых ты приучил к какому-то уровню жизни. Причем сам, меня никто об этом не просил. Мне повезло: у меня никогда не было таких женщин, которые бы о чем-то таком просили. Я вырос в семье трудовой интеллигенции, в которой так было заведено. Мама — учитель, папа — врач, правильная семья. Я их не видел никогда. У меня детство прошло так: я всегда засыпал один. Мама — на собрании, папа — на операции. Половина книг — по педагогике, половина — по гинекологии, такой была моя библиотека. Напротив нее была моя кровать. Я лежал и рассматривал эти книжки. Таково мое детство. Прекрасное, удивительное, но вот эти одинокие засыпания тоже были. Страшновато было одному в хрущевской квартире, приходилось что-то придумывать, чтобы заснуть. Воображаешь себе андерсеновский деревянный домик в лесу. Шкуры на стенах, камин горит. На улице ужасно холодно, мороз, снег валит. Ты укрываешься теплым пледом. Трещит камин. И ты засыпаешь... Надо было все обставить какой-то игрой, чтобы заставить себя вырубиться, а утром встать и пойти на тренировку, а потом в школу.
— А как вы увлеклись творчеством? Смотрели в окна и рассказывали истории про людей, которых там видели, как ваш герой в "Человеке у окна"?
— У меня в детстве был друг Олег. Друг по двору — в Одессе это понятие было, сейчас оно исчезло. Мы лишили своих детей двора, потому что сегодня он опасен...
Так вот мы с Олегом придумали такую игру — "в людей". Заключалась она вот в чем. Мы сидим во дворе и смотрим на прохожих. Идет по двору человек. Может быть, с рынка, с работы или еще откуда-то. И надо было угадать то, что, как я потом узнал, называется "внутренний монолог",— то, что человек проговаривает про себя. Мы старались в шуточной форме рассказать его биографию, то, как он живет сейчас и о чем он прямо сейчас думает. "Пошел на рынок, хотел взять свинины. Это не свинина! Взял говядины. Что я с ней буду делать? Сварю суп — эта сволочь мясо опять спрячет!" — и дальше, со всем одесским колоритом.
Кстати, сценарий "Человека у окна" писался прямо "под меня". Я целыми днями рассказывал сценаристу о себе, а он записывал эти детали в текст. Эта работа для меня очень дорога, я никогда не играл ничего подобного.
— Как вы с другом проверяли, угадали ли вы "внутренний монолог" прохожего или нет?
— Никак! Ты должен стать смешным не за счет кривляния или передергивания, а за счет того, что ты вдруг становишься на него похож. Причем не надо копировать его голос! Звукоимитация мне всегда давалась легко, но я старался ее в себе не развивать: мне это казалось чем-то вторичным. Когда я учился в школе, там не было ни одного учителя, которого я бы не мог показать один в один. Но разве это талант — говорить как директор школы? В ту игру с угадыванием мы до сих пор играем с женой. К сожалению, в последнее время я сам становлюсь объектом наблюдения. Но иногда можно сесть в какую-нибудь уютную кафешку в Питере на Пушкинской и смотреть на людей — там же о каждом посетителе можно собрания сочинений писать! Он такой чуть пьяненький, у него вся жизнь — в сумке, потому что он бомж. День понятен, цели ясны: дожить до завтра, выпить, покушать, не заснуть на морозе. Мы сидим, и нам безумно интересно наблюдать за ними. Нет ничего хуже экскурсий и туризма. Я лучше выйду где-нибудь в глухом месте, куплю двести граммов колбасы и кусок хлеба с помидором и буду их жрать, рассматривая прохожих. Ничего лучше нет!
— Роль человека, который ставит Чехова, вам трудно далась?
— Дима Месхиев, когда мы работали над "Человеком у окна", заметил такую странность. Было много попыток снять фильм о театре. Но при том что в кино играют в основном театральные артисты, как только они начинают играть то, что знают лучше всего, фильм вдруг становится невероятно пошлым и неинтересным. Как же это объяснить? Поэтому в "Человеке у окна" мы постарались почти не показывать театр. Мы знаем, что герой там работает, видим, как он туда приходит. В фильме "Наш Чехов" тот же прием. Там нет репетиций. Когда к моему герою по очереди приходят актрисы с очень своеобразными заявками на Раневскую, я попытался даже передать это ощущение невыразимой пошлости. Я стараюсь показать, что в момент творчества человек сидит, жует, рисует, а не рассуждает о Чехове.
А самое дорогое для меня в этом фильме — финал. Проход по рельсам. Я всегда мечтал, чтобы я не специально в неком ракурсе повернул голову и как-то очень по-особенному, с поволокой, посмотрел в объектив. Будучи не очень киногеничным человеком, я мечтал о таком крупном плане, чтобы я сам себе наконец-то понравился. Чтобы не отвернуться, когда моя огромная рожа размером с фуру появится на экране. Чтобы для моих детей это лицо на экране осталось — портрет старика-ребенка. У Олега Янковского это было — в "Служили два товарища", например. Там в него стреляет персонаж Высоцкого, Олег поворачивается так неловко, будто его кто-то толкнул в спину. Улыбка сквозь слезы, а за ней так много всего! Всю жизнь шел к сложному, а все просто! В "Нашем Чехове" я старался это показать. Железная дорога, по которой не ходят поезда. Какой-то лес. И это счастье, а все, что до этого,— фетиш. Такой выдох в кадре. После этого герой, наверное, должен умереть где-то за кадром. Только иначе, с улыбкой, со светлой печалью. Кадр этот у меня получился так. Я шел на камеру и увидел окурок. Подобрал его и вспомнил, как мы делали в армии. Нашел чей-то окурок, подобрал и обжег зажигалкой фильтр, чтобы убить грязь. Я обжег, закурил и так мне стало хорошо! Для этого кадра, скажу честно, специально целый час не курил. Чувствовал, что что-то произойдет. А еще я подсчитал шаги по шпалам и этот окурок себе сам подбросил. Никого не стал об этом предупреждать — ни режиссера, ни оператора. Я знал, что план достаточно общий, и если я наклонюсь, то не вывалюсь из кадра. Мое счастье, что у меня есть режиссерский опыт и я мог это просчитать. Ради получившегося крупного плана можно сниматься. Я сказал режиссеру Анне Чернаковой: "Делай с этим фильмом что хочешь. Можешь сделать меня третьестепенным персонажем, переозвучь. Но если ты уберешь этот крупный план, забудь, что я есть на этом свете"... Этим кадром я сам себя удивил.
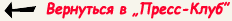
|
|




















